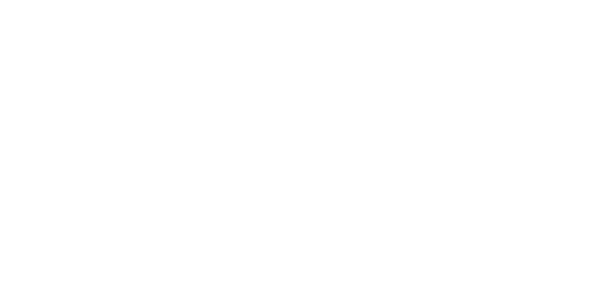СТОЙКИЙ ПРИНЦ-ПРИНЦИП
«Знаю: я смертельно болен.
С каждым словом, с каждым вздохом
Мне спирает грудь и колет
Словно острием кинжала.
Наконец, как все, я смертен —
Это сознаю я тоже
И что смерть застигнуть может
Каждого в любое время,
Оттого-то гроб и люлька
Сходны меж собою формой.
Человек, чтоб взять и бросить,
Равно руки простирает —
Он протягивает руки
Вверх ладонью для принятья,
Для бросанья ж вещи наземь
Обращает вниз ладони:
Вот вся разница в движеньях.
Колыбель открыта кверху
Для принятья в мир младенца,
Гроб же закрывают крышкой,
Опуская вниз в могилу.
Так чего же будет жаждать
Тот, кто в этом разобрался?
Жизни будет добиваться
Или домогаться смерти?
Я молю о смерти небо,
Чтобы умереть за веру»
(Кальдерон, «Стойкий принц», фрагмент монолога Фернандо, третий акт, явление третье)
Спектакль состоит из 6 частей, в этих частях есть три полноценных акта, основанных на практически нетронутом в своей линеарной разверстке тексте Кальдерона. С другой стороны, каждый акт переживает свои мутации, и целый ряд сцен из первого и второго акта превращаются в особый сотканный «узор». «Узор» покрывают «миражи», которые уже не связаны с предложенным Кальдероном временем происходящих событий, и даже ситуации, существующие внутри этой драматургии, очень серьезно искажаются. Это «сценки-мутанты». Они «проживают» на «Кладбище».
Фернандо — принц мира во времена войны. Слова «принц» и «принцип» растут из общего латинского корня. В этом смысле принц Фернандо оказывается носителем стойкого принципа. В спектакле — стойкий принцип рассечен на две части. Там, где «линия», то есть рассказ вне «узоров» и «миражей», располагается жизнь, и в этом смысле Фернандо — это стойкий принцип мира. А там, где «узоры» и «миражи», стойкий принцип оказывается смертью. Эти две части связаны между собой парадоксальным образом. «Кладбище №1» — это стойкий принцип смерти текста. На этом «кладбище» композиция так и устроена: рассказ идет о смерти текста, о невозможности говорить. В процессуальном смысле каждая следующая сцена постепенно уводит нас в ад артикуляционного распада. «Второе Кладбище» — это смерть театра, сцена за сценой. Вереница мутировавших сцен приводит нас в мемориал. Таким образом, на одном «Кладбище» «хоронят» текст, а на другом «Кладбище» «хоронят» театр.
Здесь не заложено желания понравиться, развлечь. Здесь есть особая боль, преследующая меня. По природе своей я человек, связанный с феерией, то есть я люблю целостность театра, но эта целостность заболела в моей душе, с ней что-то случилось. Поэтому весь этот огромный труд (почти трехлетний), пронизан болью, в этой связи он может шокировать или быть непереносимым, но я тут ничего не могу сделать.
Так устроено барокко: все сложено в особые слои, в которых боль и радость лежат друг на друге и иногда они, как любовники, переворачиваются. Так возникает барокко. Оно возникает в пересечении табуированных для культуры границ, и никуда от этого не денешься.
Дмитрий Курляндский, Андрей Кузнецов и Юрий Хариков, Игорь Яцко — все они музы. Театр ведь и есть содружество муз. Музы персонализированы в виде серьезных мужчин: композитора, хореографа, художника, актера. Я к ним и отношусь, как к послам муз, как к представителям муз, более того, как к самим музам. Довольно странное перверсионное чувство своего собрата художника. В сегодняшнем времени тотальность перверсионных процессов обнаруживает себя в очень суггестивной мере. Публичное обнажение, публичная демонстрация собственных внутренностей — это часть времени. Но это не эксгибиционизм, это перверсия, то есть перемена, которая происходит внутри этого публичного обнажения. С музами это все тоже происходит. Я вижу их, вышедшими на тропу особого рода социокультурной перверсии. На сцене картонные дурилки декораций Юры Харикова, всё в черном цвете: черные буквы, черные барабаны, черные силуэты спящих гениев, Кальдерона и Пушкина. Жизнь — это сон, страшный сон культуры. Дима Курляндский осуществляет особого рода выход из-под традиционного звучания. Шепот, звук, трение, поскрипывание оказываются той грамматикой, из которой выстраивается другая музыка, дыхание, плеск артикуляции, которая сама по себе уже не содержит слова, но остается бульканьем и производством звуков. Или странная пластика насекомых, при помощи которых Андрей Кузнецов рассказывает войну.
Уже более 25 лет я работаю с Юрием Хариковым и Андреем Кузнецовым, у нас большое содружество, множество спектаклей. Мы даже вместе создали маленький Санкт-Петербургский балет и в Эрмитажном театре сделали несколько балетных спектаклей. В начале 90-х годов в Петербурге, в театре, построенном Кваренги. Андрей как хореограф, я как режиссер, Юра как художник, и все мы как либреттисты. Это было именно наше соавторство. Тогда мы могли реально встречаться с красотой в ее пусть и иллюзорном, как потом выяснилось, облике, но который вдохнул в нашу кровь Серебряный век и еще что-то такое.
Время шло и стало понятно, что мертвая царевна сгнила в гробу — не сработало целебное качество. И когда Иван Царевич вскрывает гроб, он видит не просто скелет, но сгнивший скелет — вот что случилось с красотой. Кости похоронить и дальше из этой нулевой ситуации заново влюбиться. Нулевая ситуация письма. Раньше кость была противопоставлена духу. Сегодня война костей с духом кончилась, потому что нет ни костей, ни духа, и это надо признать. Во многом это спектакль о театре. Могила как возможность возобновления новой этики — это как в танатотерапии. Только представляя человека в могиле, я могу избавиться от войны с ним, даже если этот человек я сам. Я перестаю воевать с самим собой, если я представляю себя в могиле.
Мы различаем Пушкинский «Пир во время чумы» как мистерию смерти. Там сокрыта техника прохождения сквозь смерть. Раскрывая эту технику в себе, мы поем, поэтому последний акт — это концерт-мутант.
Неуничтожимый кадавр в третий раз восстал из могилы, чтобы запустить невероятный, живой, полный отстегнутых от социума страстей черный капустник современности, настоящего времени, со своими героями, авторами, со своими песнями и хитами. Но раздувшийся до размеров отечества этот черный капустник мутирует в гражданскую войну. Это случилось в конце 90-х. А нулевые годы — это идеальное место для завершения процесса выхода кадавра в жизнь. Он все 90-е, так сказать, вылезал из земли, часть за частью. И вот уже тринадцатый год он шествует, третий главный, мощный, неистребимый. Дальше могила. Но она должна быть крепкой, иначе он опять прорвет оболочку, и будет четвертый; и тогда придется измерять историю уже не в событиях жизни, а в явлениях кадавра.
В центре кальдероновской философии располагается особого рода диалектика: могилы и колыбели (люльки и гроба).
Когда-то для советского сознания очень важным было понятие «возрождения», потому что мы опирались на это понятие и через него искали энергию художественного претворения. Сегодня говорить о возрождении бессмысленно, потому что возродиться сегодня что-то может только в облике кадавра. В конце 90-х, вытаращив глаза, он стал потрескивать оживающим телом, костями; все нулевые годы (обратите внимание на этот ноль) готовился к выходу, и теперь, наконец, упоенный новой энергией социального антипафоса, как бы уже вступил в жизнь и начал петь, издавать особые хрипы, именно в рамках нового идеала нуля.
По пространству культуры бродят кадавры, а люди живут на кладбищах. Таково мистериальное электричество времени. Если до этого нас занимала жизнь, а рождение и смерть, колыбель и могила были началом и концом главного процесса бытия, то сегодня что-то случилось. Это такое состояние души, когда ты радость можешь ощущать только сквозь очень сильную боль, это и есть необарокко, радость сквозь сильную боль, потому что барокко, как таковое — искусство конца. Это искусство завершения, гниения прекрасного.
Испанское барокко — это дитя поражения, оно возникает в результате поражения. Во всяком случае, так я переживаю этот стиль. В нем заложен образ колыбели и могилы, которые есть просто один поворот одной и той же ладони. Могила — этический принцип выхода из-под власти войны, потому что душа может выжить только в мире.
Мир — это концепт; это не просто слово. В этом смысле мистериальное электричество проникло из культуры, из отдельных душ, которые переживали эту мистерию в 80-90-е, в саму жизнь культуры и жизнь самой жизни.
Сегодняшнее время, конечно, связано с гибелью иллюзий, надежды, имперского сознания — всего, потому что момент этой гибели ты начинаешь чувствовать ежедневно, ежесекундно. А гибель — это процесс, развернутый во времени, это не молния, сверкнувшая однажды и ушедшая навсегда. Это именно длительный процесс. Он проходится по каждой жизни, он расцветает в каждой душе как гибельный цветок.
Если раньше мистерия жила в душах отдельных людей, то сейчас одновременно с кадавром наружу вышло некое электричество жизни, пронизанное мистериальным духом; духом, в котором финалы и рождения начинают управлять самим процессом жизни. И жизнь оказывается просто промежутком между ними. В этом смысле к нам рождение и смерть очень сильно приблизились, ими практически наполнено время жизни.
Сам текст Кальдерона — это державный текст. Недаром его первый перевод в России сделала Екатерина II. Сначала, кажется, что текст написан для «испанского Кремля», где герой нации побеждает арабов. А когда начинаешь вдумываться, все оказывается не так. Этот самый герой нации, легендарный Фернандо, несет потрясающий компромисс; он принц компромисса, он принц мира; он одинаково воспринимает важность каждого человека и отпускает из плена арабского полководца; муки любви и ревности, которые испытывает его враг, переживаются им острее, чем собственная участь. Он не «азербайджанец», который в любом случае зарежет «армянина»; он поднялся над этим сражением «мировых армян» с «мировыми азербайджанцами», поднялся туда, где на самом деле происходит мир как состояние без войны; и оттуда, из этой логики мира, он совершает жертву — уходит в могилу. В его огромном монологе возникает волшебная часовня. Эта волшебная часовня — абсолютная статика, откуда восстает новое эфирное тело культуры.
Да, это документальный спектакль. Но я не имитирую поверхность происходящих вещей, жизнь поверхности, я не документирую жизнь физических тел, их разговоры. Я документирую жизнь «эфирного и астрального тел времени». И оттуда, из этих сфер, веду репортаж. Так возникает форма трех актов, двух кладбищ и одного концерта-мутанта.
Раскрепощенное сознание не может найти места проживания, и это становится специальным переживанием. Отсутствие места для проживания становится местом переживания, и это место из реальности перемещается в душу. Так начинают произрастать новые техники игры. Их много, они размножаются. Возникает новая поэтика. Вот что происходит с душой. Она раскрепостилась не вовремя. А это «не вовремя» — это и есть образ времени, которое не вовремя для самого себя. Художник не может быть «за», он всегда «против». Даже если против него стоит он сам.
«Несуществен день и год, —
С каждым считанным мгновеньем
То, чего мы не отменим,
Приближает свой приход.
Смертен человек, — итак,
Не болезнью он подстрелен,
Сам он для себя смертелен,
Сам болячка, сам очаг
Пагуб, язв и передряг
Невозможно сделать шага,
Чтоб при этом я не знал,
Что ногой на землю стал,
Под которую я лягу.
Будь велик я или мал,
Но мертвею я и стыну.
На руки меня возьми.
Настает моя кончина»
(Кальдерон, «Стойкий принц», фрагмент монолога Фернандо, третий акт, явление пятое)