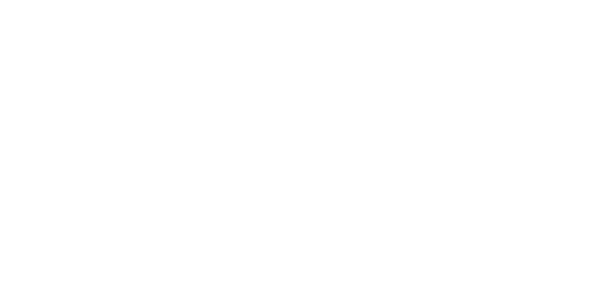Б.Ю.: Как можно сделать эту сцену, если что-то подсказывать? Я могу подсказать снаружи, не изнутри. Потому что изнутри это разговор объёмный, чтобы разобраться в том, как устроены два этих сонета, в чем там переворот. Дальше, как брать сцену - вставляя её в сквозное движение или вынимая из сквозного движения, как притчу, это же тоже вопрос. Есть работы, которые подразумевают, что они будут вставлены в сквозное движение, хотя они принадлежат «узору». Это связано с первой сценой, со служанкой. Там целая сцена: «Ты цветов нарвать велела? Да, сейчас их принесут. Я на них бы поглядела». Что? Дальше там какие идут слова?
- «Ты поглощена всецело размышлениями опять…»
Б.Ю.: Да. Что это за размышления? Что это за размышления? И почему они опять? Если это в сквозном действии находится, то понятно - есть разбор, он существует, надо попробовать с ним соотнестись и брать его напрямую. А если это притча, то тогда эти размышления с чем связаны? Тогда это разговор про что-то, что сейчас и будет. Тогда это такая особого рода циклическая бесконечность. Как я бы сидел… если в музыке... и брал бы аккорды… или брал какую-то аранжировку и мелодию, которые и будут сейчас сыграны. Можно отнестись к этому, как к такому малому микроспектаклю, но завершенному. Тогда в нем есть увертюра, в которой уже кратко излагается что-то, что будет дальше, но тогда эта сцена увертюрная… Если это притча, если её вынуть из спектакля, сделать её завершенной сценой, тогда вы со служанкой говорите. В данном случае это не служанка, это просто условное обозначение. Вы говорите о том же, о чем дальше будет разговор. Мир, в котором есть только эти размышления. Только это сопоставление жёсткой и беспощадной зависимости от фатума, именно беспощадной, или несмиренности с ним и выхода из него. Есть условие первого сонета, что никакого выхода из-под фатума нету. Это же очень жёстко поставленный сонет. И финал этой истории в том, что Феникс с этим не смиряется, ни при каких условиях не смиряется с властью над ней фатума. Какой финал? Какие ты говоришь слова?
ФЕНИКС:
Тем, что со звездою схож,
Тем, что по цветам букета,
Словно по ходам планеты,
Будущее ты прочтёшь…
…
Рассыпанные по небу светила...
Б.Ю.: Вот финал сонета. Потом что?
На что же нам, затерянным в природе,
Надеяться, заброшенным в простор?
Б.Ю.: Да. Это как? Это же получается, что нет вообще никакой надежды? Полная зависимость от хода планет, от хода условий. Ты в финале к чему приходишь. Вот вы все трое к чему приходите в финале? К согласию с этим?
Виктория Пикос: Несогласию.
Б.Ю.: Или к бунту против этого? Надо же сообразить и по своей жизни. Это должно стать твоим. Сейчас это просто чужие слова. Это неважно, я не хотел бы критиковать ничего, я говорю про путь, который надо проделать. Вот у древних было три обозначения судьбы - провиденция, фортуна и фатум. Это три обозначения судьбы, они очень важные, понимаешь. Провиденция - это то, что назначено человеку богами, мойрами, назначенный путь, который всё равно придется пройти даже при наличии свободной воли. А фатум - это то, что зависит от человека, то, где человек находится в постоянном взаимодействии и…
- С его выбором?
Б.Ю.: С его выбором, да, но у древних это связано с какой-то возможностью праведного движения по жизни, взаимодействия. А фортуна - это беспощадный случай. Беспощадный случай, который не оставляет никакой возможности для выбора и управления. И ты можешь быть праведником, а с тобой случай может обойтись непредсказуемо... И эти три силы властвуют над человеком. Здесь не так. Здесь немножко иначе. Здесь тоже про власть над человеком силы, но здесь, скорее, провиденция. Эти сонеты построены на их отношении с космической властью, с роком, с управлением обстоятельствами, которые не находятся во власти человека. Об этом он очень жёстко сообщает, не в смысле качества, а в смысле содержания. Например, сейчас Вика сказала - свобода воли. Свобода воли - это христианская история, то есть монотеистическая. Я разговаривал в свое время с одним замечательным раввином, одним из мудрейших раввинов. У него только учеников-раввинов больше двух тысяч, такой раби Меир. И он сказал потрясшие меня слова. Он говорит: «Вот сказано: по образу и подобию моему создал человека Господь, по образу и подобию. Но что это такое?» Он говорит: «Где образ и подобие мое в человеке?» Свобода воли. Вот это и есть его образ и подобие. Понимаете? Это меня совершенно потрясло. То есть вот что такое свобода воли. Там, где дана нам свобода воли, свобода вольного выбора, свобода выбора, свобода воли, это и есть образ и подобие Божье. Теперь получается, что этого нет. Парадокс в том, что Фернандо в этом акте забирает это, в этом сонете. Провоцирует ее, Феникс, на то, чтобы это получить, она не может с этим смириться. Вы понимаете, да? Значит, вот финал, это же вдруг обнаруживается в финале. Эти два сонета стоят того, и выход превращен, ведь это же парадокс - два стихотворения, два сонета единым образом друг друга продолжают, как микропоэма, превращены в действие, превращены в драматическую сцену. Потрясающее, парадоксальное построение. Эти сонеты известны. И как это так, что они взяты и превращены в сцену. За счет чего? Как выйти из-под власти просто чтения стихов туда, где происходит действие? Что здесь друг другу противоположно? Чтобы получить драматическую сцену, надо получить две противоположности и сложить их вместе. Что здесь? Как получить эту территорию, на которой противоположности можно разыгрывать. Где эта территория располагается? Может разве существовать человек не по подобию Божьему? Без свободы выбора. Что значит свобода выбора? Что это значит? Это не простой момент - свобода воли... Всё предопределено, так и есть. Есть управление, всё уже случилось. Во времени же находится только человеческая душа. А у Господа всё случилось в ту секунду, как он мир задумал. Но случилось-то у него в началах и концах сразу. Как это можно сопрячь? Это же большой парадокс о соотношении человека и Господа Бога. И что это такое: «по образу и подобию моему»? Как это в душе сопрягать? Как это, когда говорят, что случай - псевдоним Господа Бога? Есть в православии такое понятие. Что оно значит? Что значит: в каждом мельчайшем аспекте твоего существования дышит Господь? Что всё это значит? И что значит это сравнение с цветком? Как уместить свободу воли с детерминантой, с детерминированностью жизни, с определённостью? Как совместить возможность самому управлять тем, что всё уже находится под властью управления. Как это совместить? Как разрешить это противоречие, этот парадокс? Где он разрешается? И разве можно сыграть это?.. Это можно сыграть, если перевести в душевный план. Тогда надо подсоединить это к сквозному действию. А если это взять как притчу, если это взять как замкнутый этюд, то тогда надо это разрешить на уровне осознания самой темы, идеи о свободе воли. Что значит «все спасутся»? Что за этим стоит? Что такое управление? Вот есть такая притча. Вот сделаю намек на этот ответ.
Это непростые вопросы. Есть притча, очень глубокая. Учитель-скульптор. Создал потрясающей красоты скульптуру. Пришли его ученики, он им её показал, а потом взял и разломал её, разбил на множество кусочков. И сказал: «Собирайте. Хотите стать как я?» «Да», - сказали. Учитель: «Собирайте». Вот что такое свобода выбора. Понятно? У тебя есть выбор в кусочках скульптуры, хотя она уже была собрана. И она будет обязательно собрана. Но если ты её соберёшь, а не он, вот выбор между добром и злом, тогда ты и станешь, как он. Тогда ты будешь знать этот путь и станешь, как он. А если он за тебя соберёт, то ты ведь не станешь, как он. Он останется одиноким. Он хочет с тобой поделиться, он может с тобой поделиться, и ты хочешь стать как он. Если выйти за пределы пьесы, если размышлять об этом, как о реальной проблеме, о том, как этот парадокс разрешается, то в этой притче он разрешается, если вы слышите. С этим вы имеете дело. Не в душевном, а в духовном смысле. Если мы хотим в душевном смысле рассказать историю… я её тогда отдаю сквозному действию, потому что строю сквозное действие на душевно-духовной игре, то есть душевное для меня - больше душевного рассказа, как ни парадоксально. А если взять это как притчу, тогда духовный разговор, тогда тема, предмет, о котором здесь идет игра, соотносится с двумя этими сонетами. Тогда как развивается эта игра? Одна фигура как бы состоит из трех частей. Одна говорит: «Все думаешь? Опять думаешь?» - то есть она зачин дает, как в песне, эта служанка. Её функция - дать зачин. «Опять думаешь? - она отдает из финала. - Продолжаешь собирать скульптуру?» Если эта территория. Маш, слышишь? Вот начало. «Ну что со скульптурой? Продолжаем собирать скульптуру?» Появляется Витя: «Собирай - не собирай, не получится», - как бы подхватывает этот момент. И кладет тезу, вернее, антитезу. Тогда в ответ возникает этот сонет. Когда он говорит, он не говорит «не получится», он говорит «абсолютная детерминанта», вот что он говорит. Абсолютная детерминанта. Все, ничего от тебя не зависит, надо принять устройство мира, ну вот оно такое, оно такое... Да? Как там это звучит? Сонет.
ФЕРНАНДО:
Казались сада гордостью цветы,
Когда рассвету утром были рады,
А вечером с упреком и досадой
Встречали наступленье темноты.
Недолговечность этой пестроты,
Не дольше мига восхищавшей взгляды,
Запомнить человеку было надо,
Чтоб отрезвить его средь суеты.
Чуть эти розы расцвести успели, -
Смотри, как опустились лепестки!
Они нашли могилу в колыбели.
Б.Ю.: Вот тема могилы и колыбели. Берется в чистейшем виде. Если ты хочешь встретиться с управлением, то ты должен выйти из-под власти... «Могилу в колыбели». Дальше там что? Сейчас скажу, просто чтобы не болтать.
Они нашли могилу в колыбели.
Того не видят люди чудаки,
Что сроки жизни их заметны еле,
Следы веков, как миги, коротки.
Б.Ю.: Коротки... Как же это сказать? В чем теза? Что он ставит сюда? Скоротечность, о которой он говорит, эта краткость… А что можно успеть? Ничего ж невозможно успеть. Не успел родиться - уже умер. А почему он говорит, не успел родиться - умер, почему он говорит, что «следы... как миги коротки»? «Есть только миг между прошлым…» Почему так устроено? Краткость, краткосрочность. А теперь вернём это в притчу. Эта краткосрочность, эта краткость - это и есть абсолютная детерминированность. А что ты можешь сделать? Ничего. Просто раз, два и всё. Ты не успеваешь родиться, ты уже умер. Надо проходить и класть эту тезу, не то чтобы цинично в качество, но беспощадно. Этот момент должен быть беспощадно выстроен. Слишком кратко - фить и все. Не с тем, что слишком кратко, поэтому давайте время не терять и посвятим его главному. Так тоже можно, но я рекомендую так не говорить. Иначе появляется пафос, нравоучение, дидактика. Всё настолько кратко - давайте главному посвятим. Получается проповедь. Я бы так не советовал. Если в притче, то надо положить тезу. Это же сонет, сонеты построены на игре тезы с антитезой. Они так все устроены: теза - антитеза, синтез. Трехчастное построение сонета, и в данном случае трехчастное построение сцены можно сделать. Служанка говорит: «Опять». Она как бы ставит тезу, заключающуюся в возвращении, и вот это «опять», «опять» думаешь, т.е. преодолеваешь, за счет возвращения преодолеваешь краткость. Он приходит, говорит: «Какие возвращения? Кратко! Ничего не успеешь сделать! Всё решено! Спастись невозможно!» Тогда финалом будет бунт, бунт против «спастись невозможно»... И этот бунт тогда и окажется шагом к Господу. Бунт против «спастись невозможно». Это не пропаганда Господа, а это бунт: «Ну, может быть, и невозможно, но я в этом не участвую, вот в этой невозможности». Тогда это притча. А внутри что? Ты кто? А я теперь никто. Дед Пихто. Был-то я всем, а теперь я ничто. Это как раз на тему. Мы одной масти, но ты ко мне не показывайся со своим смирением. Вот как устроено действо в притче. Тогда вы вместе играете на территории этой притчи. Не обслуживаете две её разные части, но находитесь на ней вместе, все трое. Маш, понятно? Какой вопрос?
- Я не знаю, как-то не складывается у меня.
Б.Ю.: Что? Давай разберемся. Что понятно, что непонятно? Где не складывается? Тогда будет легче.
- Ну, просто такой вопрос. Так как этот текст произносит Фернандо, мы его воспринимаем, ну, как истину, да?..
Б.Ю.: Его сонет?
- Да. Или мы это воспринимаем просто... Если бы это говорил другой, кто-то другой, а не Фернандо, то это какой-то очень спорный текст. Как-то… если он христианин и говорит, что шансов нет, то это уже не христианская позиция.
Б.Ю.: Я сейчас вывожу вас за пределы самой по себе коллизии - христианской, или мусульманской, или иудейской, или какой-нибудь еще, я вас вывожу за пределы религиозной позиции, это первое, что я делаю, иначе мы притчу не получим. В сюжете это важно, если это всё-таки история о христианине, она важна, если это история о верующем, монотеисте, тогда важно не столько, что он именно христианин, а важно, что он с Богом. Вот сегодня, как сказать, в нашем времени, когда Бог умер 100 лет тому назад, очень важен, в принципе, сам по себе выбор, что я - верующий человек, я иду с Богом, а не без него. Это сегодня становится очень важно. Если ты идёшь с Богом, а не без него, тогда на что ты, собственно, рассчитываешь, если разобраться. У тебя жизнь-то устроена как - фить и все. То есть он обслуживает персонажа? Нет. Фернандо? Нет. Ты служанка? Нет. Ты Феникс? Ни в коем случае. Вы втроем рассказываете притчу. У вас есть сюжет - драма, выходящая за пределы этой истории, микроспектакля? Нету. Вы вышли втроем и разыграли притчу о скоротечности существования, которое приводит к смирению. Это то, что он говорит. Это одна история. Существование скоротечно, надо перед этим смириться и все. А есть у тебя свобода выбора? А нет никакой свободы выбора, слишком всё быстро проходит. Ты не успел родиться, уже могила. Вот. А откуда ведётся рассказ? Конечно, есть свобода выбора, и эта свобода выбора спрятана в её бунте. Этот бунт вы на троих и создаёте. Вот предложение, если брать это как притчу. Машенька, а ты что скажешь? А у тебя? Нет, можно и по-другому, но мы же в данном случае ищем какое-то одно решение для вас. А какое у тебя было предложение? Какое-то другое?
- Нет, это тут уже каждый выбирает, как…
Б.Ю.: Если брать это как притчу.
- Если брать это как притчу.
Б.Ю.: То есть как замкнутую. Мы эту сцену вытаскиваем из пьесы, берем её совершенно независимо от пьесы, как притчу, как осколок, как осколок Гераклита. Читали его? У него есть кусочек фразы, и больше ничего нету. Мы не можем даже реконструировать весь текст.
- Ну, нет, может, просто я всегда думала, что в этой сцене Фернандо что-то такое говорит, что нужно понять, вскрыть, а если это как притча, то, получается, тут…
Б.Ю.: В этой сцене?
- Если эта истина никому не принадлежит.
Б.Ю.: Фернандо даже в пьесе, в этой сквозной линии ведёт себя как восточный учитель. Он с Феникс говорит очень провокативно. Он этот бунт в ней выращивает, он как бы коан ей задаёт, он задаёт беспощадный коан. Тогда Феникс начинает бунтовать, она бунтует через эго. Она никогда не смирится с этим, потому что она никогда не смирится с тем, что у нее отобрали любовь, папа её доконал. Она со всем этим не будет мириться ни при каких условиях. Она здесь находится уже как воительница, но это и есть путь к Христу. Вот в чем парадокс - это и есть путь к Богу. Путь к Богу - только вместе с бунтом, под полноценным бунтом природы. Всем собой надо к Богу приходить, по-другому нельзя к нему прийти. По-другому это будет обман, или кликушество, или враньё, ложь, когда елей, а в душе «в тихой заводи кто-то там водится».
- Черти.
Б.Ю.: Вот как это называется, старушки такие? Есть слова специальные. Когда на лице одно, а внутри другое.
- Лицемер.
Б.Ю.: Какое-то такое… забыл слово.
- Приторное?
Б.Ю.: Да-да, но какая-то даже…
- Набожное?
Б.Ю.: Псевдо, псевдуха такая. Другое. Короче, здесь она идет чисто, понимаешь. Она идет через бунт. То есть финал связан с бунтом в её душе. Но этот бунт, это что, приход к Богу? Нет, это бунт... Она должна оказаться на территории этого бунта в связи с собственными страстями, в связи с собственным актом, эго, с тем, что составляет её, она в этот момент отказывается от любой власти над собой, потому что ведь она была под властью державы. А Фернандо говорит: «Ты не под властью державы, а под властью Космоса». А она говорит: «Я от любой власти над собой отказываюсь». Это путь к Богу, это шаг к нему, вот в чем парадокс. И этот шаг происходит в действии, Фернандо провоцирует как учитель. «Мы с тобой одною масти...» Как она говорит?
- «Скорбь могла бы сблизить нас».
Б.Ю.: Могла бы нас сблизить. «Но, товарищ по несчастью...»,- тут, слышишь, особого рода ирония звучит у Пастернака... «Не кажи мне глаз...»
- «Страшны мне твои напасти».
Б.Ю.: Да, страшные напасти. Я сейчас говорю по сквозному действию, как девушка вместе с персонажем, чуть-чуть его рассматриваю. Такая ранимая, исполненная треволнительной души девушка, которая говорит: «Нет, нет, я с этим не могу... Ты, пожалуйста, больше мне не показывайся. Это для меня too much, мне сложно». Характером закрыться, т.е. он здесь как бы мерцает. Но тогда здесь слишком большой акцент на характере, на персонаже, и тогда надо его дальше тащить зачем- то с собой, понимаешь. А зачем, ради чего тащить этого персонажа? Какая-то большая грыжа низачем. Особенно в наши времена. Никто ж не будет в театре различать никаких персонажей, после того как кино показало всю их безусловную условность. Поэтому невозможно с ними так работать. Только в порядке какого-то специального юмора, но это же другая техника - создавать, выделять такого персонажа из себя, это другая техника. «Дисморфомания» - пьеса Володи Сорокина по этому поводу очень смешная, по поводу вот этих персонажей. «Доктор, мне кажется, что у меня вот здесь плавник». Там действуют люди, больные дисморфоманией. Им кажется, что у них дополнительные органы или ещё что-нибудь. Это надо ставить во МХАТе… Это про театр, про процесс создания персонажей.
Здесь о чём мы говорим - да, при помощи персонажа можно рассказать, тогда он должен быть мягкий такой, принявший на себя, жертвующий... Это и будет та самая ложная набожность, в стиле которой невозможно ничего рассказать. И как это сходится с Дианой, воительницей, с тем, что она охотится на склоне, с тем, что она любит горячего арабского парня, можно сказать, скакуна, полководца? Она абсолютно не смиряется, она другая, другая с тем, как её слышат служанки, когда они пишут ей: «Выйди с баркаса, с гребцом баркаса», - это ж понятно, о чем они говорят ей: «Ты как бы там разгрузись на вот этом гребце, ну, на закате». То есть они лихие арабские девчонки, понимаешь… Я её разбираю как миллиардершу-американку, потому что арабы здесь - «американцы». Они свободные, ни во что не верящие, кроме войны и наживы; люди, абсолютно лишенные каких-либо фундаменталистских намерений, то есть религиозных, ортодоксальных, никакого Бога в помине нету. Есть интересы государства, их собственные интересы, интересы Америки. И в этом парадокс разбора. Арабы же фундаменталисты, а я говорю - «арабы» у нас «американцы», а «христиане» это и есть фундаменталисты. Но, в принципе, все заняты войной. Из мира здесь только одна фигура. Все остальные, как бы они себя ни называли, это всё война. Поэтому Фернандо с ними говорит при помощи языка войны, ведет их в мир при помощи языка войны. Об этом рассказ. В этом тактика понимания этой пьесы, которая написана человеком, опередившим все времена, - Кальдероном. Он был священником. Но он не мог писать по-другому, как и Шекспир, например. Здесь особого рода стиснутость временами у религиозного сознания, которое, вернее, уже поднялось над религиозностью, над рознью. У него выбор-то невелик. В этот момент мир расколот… Крестовые походы, религиозные войны бесконечные - этих прогоняют, эти то, эти сё. А человек в силу того, что он христианин подлинный, над этим всем поднялся. И тогда он пишет такого героя, как Фернандо. Он как это рассказывает? Пьеса рассказывает про эталон державы. Всё равно, что в советское время пьеса о Гагарине.
- Конечно.
Б.Ю.: Это герой державы, державный герой. Пьеска играется в Кремлевском Дворце съездов на съезд партии. Был такой принц Фернандо, он канонизирован, король приходит. Вот во славу португальского оружия. Как мы победили арабов и всегда будем об этом помнить. Понимаешь? Кальдерон берёт такую тему, что вообще свойственно барокко, и рассказывает совершенно другую историю. Под видом державной истории он рассказывает принца компромисса, рассказывает принца, который достиг мира в финале, там не пролилась ни одна капля крови любящих друг друга, уста у него полны милитаристскими лозунгами, а действий у него абсолютно нет, и он всех приводит к миру за счет одной простой вещи, за счет того, что он сам исчез. Он - жертва. А почему должен другой исчезнуть? Это и есть мир. Почему другой должен? Я. Единственный ход - я должен исчезнуть, и тогда будет мир. Один праведник спасает мир. И он это делает без пропаганды. Поэтому странно предположить, что он ходит по садам чужой государевой царевны и пропагандирует христианство. Это странно. Он тогда несколько свихнутый. Он говорит загадочно, коан выставляет ей, и она, просветленная, удаляется. Её просветление в бунте души. Фернандо говорит: «Я тебя не хочу видеть, нет, ты от меня удались». Говорит: «Прекрасно, так, пойдем теперь...» Он как инопланетянин, у которого есть функция, осуществление которой заключается в том, что этот мир, полный войны, надо в опережение всех законов времени привести к миру. Можно представить такое fantasy, потом Стругацкие об этом напишут похожую историю - «Трудно быть Богом». Она недаром актуальна. Есть этот мотив тут. Маш, слышите? Мы его разыгрываем... Он внутри структуры точно присутствует, но сам спектакль берёт на себя большую историю. В спектакле я это складываю с постапокалиптикой, с этим временем, я его разыгрываю, но на этом стержне. На стержень одевается знамя, а на знамени не стержень нарисован, понимаете, да. Солнце, лев - эмблема, время. Вот у нас так же устроен спектакль, но стержень, на котором он держится, с этим связан.
Я бы сейчас остановился. Я чуть-чуть размял перед вами эту сцену. Мы поговорили о том, что она может быть притчей, у вас есть возможность её устроить, она может быть накрыта потом фантазмом. Это может быть простая история, происходящая в какой-нибудь «Кофемании». Я бы её так делал. Якобы подсел за столик к двум девушкам, они сидят, болтают. У вас был такой намёк, он мне понравился. Официантка кофе разносит, вы разговариваете, он подсел, вы говорите... Если это станет притчей, играть это со столиком не надо - это только внешнее. Играть надо свободно, на пустой территории, где рассказать притчу. А дальше её можно собрать и закатать в любой тип фантазма, в любой… Тогда она станет сценою «узора». Понятно, да?
Сцена «узора» становится хороша, когда она уже состоялась внутри как структура, тогда она хороша. Это необязательно чистый «узор», но, в принципе, хорошо. Мы в это играем, это постапокалиптический стиль. Если в кино, то там мы не рассказываем про то, как Далай-лама в горах учит, а мы слова и фигуру Далай-ламы закатываем, например, шеф-поваром ресторана, а говорит он как Далай-лама. Или, например, убийце предоставляем слова святого. Соединения смещаются, происходит смещение жанра, смещение устойчивых мест, фигуры становятся взаимопроницаемыми, никто не лучше никого и так далее и так далее - надо же передать это время. Например, одновременно миллионы человек входят в Facebook. Среди них есть убийцы, сволочи, предатели и так далее, а сейчас они все являются сетью, то есть одной душой. В каком-то смысле, в самом раннем смысле, это одна душа и все тут. А ведь Господь так и смотрит на людей, он не различает, повар, не повар, Далай-лама, не Далай-лама.