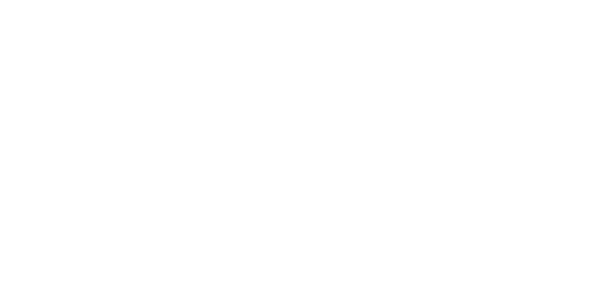Как мы уже сообщали, в Русском драматическом театре Литвы состоялась премьера спектакля «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина. Режиссер – Борис Юхананов, художник – Юрий Хариков, хореограф – Андрей Кузнецов.
Внимательный читатель помнит наши публикации, рассказывающие об этих людях, знает, что они приглашены из Москвы для создания спектакля нынешним руководителем театра Владимиром Тарасовым, что их предыдущие работы получили широкий резонанс в российском театральном мире. Поэтому вильнюсские театралы ожидали премьеру с нетерпением, с надеждой увидеть нечто необычное, высокое, прекрасное. Хотя и с некоторой долей скептицизма: может ли старая – более чем 200-летней давности – пьеса, вдоль и поперек читанная-перечитанная еще в школьные годы, прозвучать по-новому, затронуть умы и сердца? Оправдались ли надежды?
Татьяна Тарасова, художник, поэт:
– Я уже дважды смотрела этот спектакль. Первый раз – на прогоне, то есть генеральной репетиции, второй – сегодня. С удовольствием шла на премьеру, предвкушая, что снова увижу эти великолепные режиссерские находки. И мне жаль, что в спектакль не вошло все, что было на прогоне. Жаль, что текст немного сократили – на генеральной репетиции мы слышали пьесу целиком, и в полном варианте сам Фонвизин – своим текстом и своим отношением к пороку и добродетели – был более заметным персонажем спектакля.
Что я могу сказать о спектакле? Он – неожидан. Мы много смеялись, но спектакль получился не столько комическим, сколько трагическим. Это рассказ о той страшной системе, в которой мы живем, той системе, в которой скотству вроде бы противостоит добродетель, но на самом деле она оказывается еще более пошлой и страшной, чем скотство. В деревенском, простом мире есть хоть что-то живое, но в мире Правдина, Стародума так холодно, что просто мороз по коже. Там полное отсутствие чувств, сплошная дидактика, и хотя положительный Стародум все время бьет себя в сердце, он в то же время говорит страшные вещи: ты не вздумай любить любовью, похожей на дружбу, ты дружи похоже на любовь. Ужас для меня в том, что хотя все эти сентенции – про добродетель, про бесстрашие – сами по себе неплохи и верны, но почему-то всегда, когда начинают людям диктовать правила жизни, касающиеся их душевного мира, результаты бывают самыми чудовищными.
Не случайно в спектакле повторяется образ кольца, круга, из которого нельзя выпрыгнуть. Это замкнутое, безысходное пространство, и в нем, наверное, вовсе не противопоставляются друг другу два мира – скотство и добродетель, они существуют рядом, они нуждаются друг в друге.
Хотелось бы особо сказать о сценографии спектакля. Оформительское решение его – образы, костюмы, пластика – мне безумно понравились. Все настолько органично, настолько едино...
Не все детали я понимаю, не все могу умом истолковать, но в целом я абсолютно согласна с оформительским решением. Мы видим красивое и страшное зрелище.
Регина Садовникова, учительница:
– Этот спектакль я бы назвала фантастическим, в нем есть некая мистичность.
Уже начало спектакля настраивает на такое его восприятие – лежащие на авансцене столь любимые Скотининым животные своими вольными позами напоминают героев картины Брейгеля «Страна лентяев». Занавес открывается, и невольно ахаешь – мир сцены пронизан светом и цветом. Меня поразила сценография, тесно связанная с музыкой, сопровождающей спектакль, – в этой музыке есть некая потусторонность.
Пусть спектакль анализируют искусствоведы, мне же кажется, что он обязательно разбудит фантазию зрителя, а, следовательно, и мысль.
Думаю, что его надо посмотреть школьникам – и им откроются многогранность, многослойность самой пьесы Д. Фонвизина. Эта пьеса, поймут они, написана вовсе не для того, чтобы заклеймить позором ленивого Митрофана, она – о поиске идеала, который, хотя и недостижим, но все-таки всегда существует в нашей жизни.
Я смотрела спектакль, в котором играла Е. Майвина. Актриса сумела передать – и это так неожиданно! – трагедийные черты Простаковой. Если вдуматься, ее Простакова очень современна – сколько вокруг нас таких «сильных женщин», которые убеждены, что делают добро своим близким, заставляя их жить по выдуманной ими схеме.
Не сродни ли эта Простакова «положительным» резонерам, которые по существу тоже предлагают свою схему жизни?