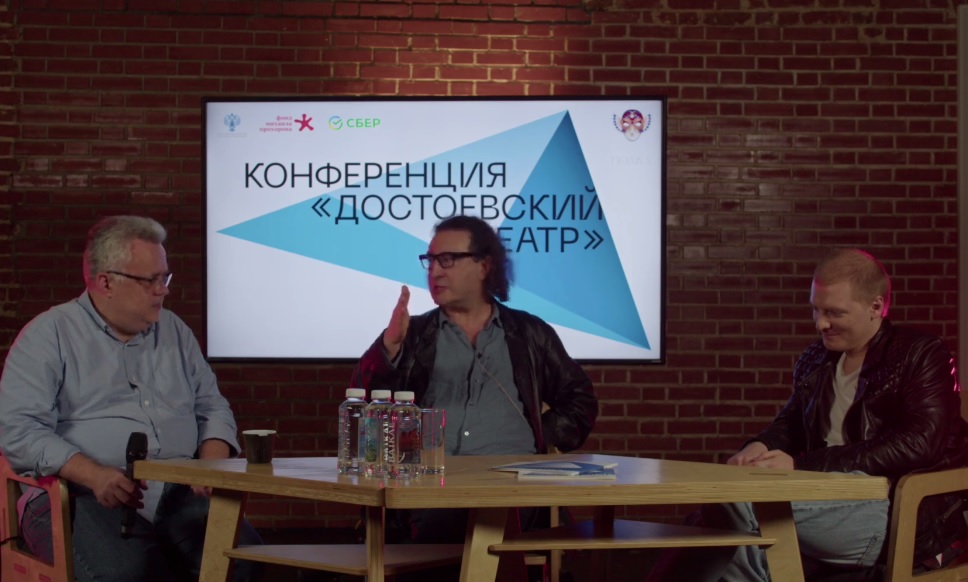
Недавно мы делились видеозаписью с конференции «Достоевский и театр», проходившей 28–29 мая в Новом Пространстве Театра Наций. В заключительной части Борис Юхананов рассказывает о проекте "Катабасис. Бесы", над которым он сейчас работает, а Клим Козинский о своем режиссерском дебюте в Электротеатре — спектакле "Идиотология". В архиве появился текст беседы.
Юрий Сапрыкин: Я приветствую всех, кто нас смотрит онлайн, и всех отважных московских жителей, которые дошли до нас сквозь дождь. Это последний разговор в рамках конференции «Достоевский и театр». Два дня разговоров о Достоевском заканчиваются встречей с Борисом Юханановым и Климом Козинским. Мы будем говорить о двух проектах, один из которых поставлен в Электротеатре, а другой – work-in-progress, то, что еще обретает свои очертания, причем в Германии, в городе Котбус. Это «Бесы», проект большой, разветвленный и сложный, который делает сейчас Борис Юхананов. Давайте с него и начнем. Как вы пришли к «Бесам», или как «Бесы» пришли к вам? Что стоит за этой историей? Это первое ваше обращение к Достоевскому?
Борис Юхананов: Знаете, как и всякий проект, так и проект, связанный с романом Достоевского, всегда растет из каких-то интимных глубин жизни. Во всяком случае у меня. Когда театр предложил сделать проект по русской классике, я довольно быстро понял, что это будут «Бесы» Достоевского. Я понял по звучанию – не то чтобы я их перечитываю каждую неделю, я просто сказал «буду это делать». Для меня решающим в этом выборе был накопленный контекст. Я понимал, что европейская цивилизация если с каким-то романом и имела дело – и в виде осуществленных спектаклей, и в виде разного рода переделок и философских спекуляций – то это «Бесы». Но также он затронул и время Серебряного века, и русскую философию. По-моему, высказались все основные фигуры. Это то, что позволило мне сразу назвать этот текст, еще до подлинного желания это делать.
А дальше грянула пандемия. Я сидел у себя в доме под Москвой. И в какой-то момент – это после православной Пасхи было или где-то рядом – я вдруг стал то, что поэты называют «получать». Но получал я это как художник, я стал получать графику. То есть я почувствовал, как моя душа отправилась в некое путешествие, причем путешествие, имеющее определенные черты. Я понял, что это такое, это традиционное путешествие, связанное с греческим словом «катабасис», то есть спуск. В Аид или в ад – это важные различия, но не суть. А у меня была китайская тушь и очень хорошие кисти. Плюс бумага, которую я когда-то купил во Флоренции, хотя это миланская бумага, причем почтовая, но тушь на нее ложится прекрасно.
Я понял: для того, чтобы мне каким-то образом выразить вот этот «приход», нужно изобрести специальную технику. Я стал делать такие кляксы, которые потом превращал в фигуративные истории. Одновременно с этим я вспомнил (такова была суть этого «прихода») понятие из моего детства – «нити Богородицы». Так называют паутинку, которая оторвалась от паучка и летает по ветру. Я помню, как нежно они оседали у меня на лице, как я вдруг ощущал эту паутинку. Здесь ключевой момент – паутина. Можно сказать, что я вместе с паутиной как основным персонажем отправился в эту графику и сделал 86 фигуративных картин в этой кляксоподобной графике. Я просто наблюдал за тем, что со мной происходит, и видел, какие мутации переживала эта паутина. Одновременно с этим паутина, которая накинута сейчас на нашу жизнь – в виде интернета – она тоже сейчас невероятно обострилась. Там в моем путешествии эта паутина мутировала до каких-то невероятных искажений, до чудовищ, до каких-то сетей древесных и так далее.
Вот таким образом я вошел в этот проект «Бесы» через катабасис и послал эту графику моим коллегам, с которым я сейчас осуществляю проект и сказал, что у меня будет два источника для моей постановки: вот эта графика и текст Достоевского. Вот так этот проект родился. Естественно он уже имел очень амбициозную форму: там участвовал оперный, драматический, пластический театр основной в Котбусе, фестиваль, и плюс к этому еще мы пригласили студентов из разных школ – от архитектурных до киношкол Германии. Они все съехались осенью.
План мой заключался в том, чтобы сделать целую серию акций – это я потом уже расскажу в связи с Федором Михайловичем, его текстом и так далее – и спектакль. Все это должно было быть связано в единую сеть. Но пандемия диктует [условия] – на улице уже невозможно ничего делать и так далее. Поэтому я сейчас уже на выпуске спектакля нахожусь, и в сентябре будет премьера.
Ю. С.: У этого текста действительно есть сотни интерпретаций, обращений к нему, взглядов на него с разных сторон, и огромное количество людей думало и писало о том, что такое собственно бесы, что означает заголовок этого романа. Это какое-то искушение, толкающее к тому, чтобы перевернуть все социальные иерархии, это повреждение души, это какое-то кружение инфернальное, которое затягивает героев в этот водоворот. Вот ваши «Бесы» в графическом виде – это такие черные протуберанцы. Как вы это расшифровываете для себя, что такое бесы в тексте Достоевского?
Б. Ю.: Я в первую очередь думаю о самом тексте как об объекте. Это очень плотный объект, который оттуда, где я нахожусь, слышится мной как единое целое. У меня возникает целый ряд внутренних табу как следствие работы с этим текстом. Первое табу – это психологическое восприятие текста, то есть душевное. Там этого нет – во всяком случае в том, как я его слышу. Там, где этот текст актуализирован историей, этот тип актуализации, на мой взгляд, исчерпан. В этом смысле это подлинный объект. Все, о чем пророчествовал Федор Михайлович при помощи этой истории, свершилось.
Ю. С.: Пророчество, которое сбылось, реализовалось и закончилось.
Б. Ю.: Да, оно как бы окуклилось, оно завершилось. В этом смысле текст стал объектом. Поразительно он устроен. Сам по себе Достоевский максимально отчужден, и собственно его голос там отсутствует, тем самым обретая те или другие личины (то есть типы дистанций, оформленных определенным образом), он создает этот очень подробный романный поток. Поэтому сама структура этого объекта или его слоистость, она замечательна. Но при этом там есть диалоги и есть невероятные описания, свойственные роману, подробности материальных реалий и тому подобные вещи. Понятно, что одно и другое – при том, что все это потрясающе подогнано и выглядит как целое – на самом деле очень сильно рознится. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь выделить оттуда весь эпический слой. В смысле эпической перспективы рассказа, повествования. Отрываясь от диалогов и от всей кантилены тонких связей, он превращается во что-то совершенно другое. Но точно так же живут диалоги. Для меня стало очень быстро понятно, что ни в коем случае нельзя отправляться в сторону монтажа – то есть в сторону инсценировки. Если ты отправляешься в сторону инсценировки, то ты становишься драматургом и в эту же секунду ты лишаешься контакта вот с этой сложно устроенной, по сути паутинной такой, сетевой тканью этого романа.
Второй аспект связан с тем, что, я воспринимаю текст как объект. Текст, наполненный определенными свойствами. Вот эти свойства я и понимаю как катабасис. Если в нарратив какой-то это вывозить, я вижу город, захваченный целиком и досконально сетью бесовства, особого рода актом ада.
Знаете, когда-то Эфрос, мой учитель, очень точно (хотя и очень общо) сказал о «На дне» Горького. Его решение заключалось в том, что дно достигло верха, вот и все. Как он это реализовал с бандитами таганковскими – другой разговор, но вот это дно, которое поднялось наверх – это прекрасное решение. Я это сейчас вспомнил, даже про это не думал. Но в данном случае мы имеем дело не с дном, мы имеем дело с бездной. И эта бездна поднялась. С первых строчек романа до последней все внутри вот этой бездны, которая еще приобрела черты и свойства сети. Потому что внутренние коммуникации, пронизывающие этот роман, очень похожи на интернет. Но так или иначе – позвольте сделать обобщение – сегодня такое время, когда личное как таковое надо усмирять как иноходца, как опасного жеребца. Сегодня не хочется пробуждать свою личность для определенного акта, для насилия над текстом. Хочется каким-то образом убрать свою личность и дать возможность тексту в виде объекта соприсутствовать в твоей работе с твоими собственными усилиями, деятельностью и так далее. Возможно, это веяние не прошлого, а будущего. Вот я так слышу необходимость работы с романным полем, выраженным в частности в «Бесах». Поэтому я по сути осуществляю свой проект в соавторстве с нейронной сетью.
Сегодня, как мне кажется, каждый художник, который вышел на опасную тропу взаимодействия с актуальным как таковым, ищет эти способы объективации. Это можно по-разному называть. Например, в спекулятивной философии это называется объектно-ориентированная онтология. Но ни в коем случае это не может воздействовать на саму работу, просто где-то рядом присутствуют так выраженный сегодня актуальный ракурс отношений с миром. Поэтому я тоже искал этот путь избежания, ускользания из-под личного выбора – он бы вывел меня на тропу инсценировки, которая, на мой взгляд, исключена по разным причинам. Все-таки мы имеем дело с романом, а не с драмой, и любая инсценировка, перевод в пьесу будет значит, что я обессмысливаю сам акт обращения. Во всех смыслах, в том числе и в театральных технологиях разбора, в работе с актером, с энергиями и тому подобными вещами – я обессмысливаю сам по себе основной момент встречи с Достоевским в виде текстового объекта.
Ю. С.: Мы тут уже вспоминали неоднократно, как сам Достоевский отвечал на предложение сделать инсценировку романа. И ответил он так: «Нет, извините, роман – это роман. Трогать его нельзя, свойства его не могут быть переданы без потерь. Если хотите, возьмите общую идею и напишите другой текст.
Б. Ю.: Ну и правильно. При том, что он не был театральным человеком. Я согласен с этим. Вот этот опыт объективации – это те шаги, которые необходимо было сделать. Поэтому мы обратились к тому, что принято называть вики-цитаты. Роман же уже просуществовал свои сто с лишним лет и, естественно, осел в коллективном бессознательном сети определенным образом. Мы проработали на всех языках вики-цитаты и выбрали их. Это первый акт обезличивания, который мы совершили. А второй акт – я эти вики-цитаты отправил нейросети, и она, как это свойственно сейчас, начала как бы продолжать Достоевского. В каком-то смысле искусственный интеллект внял Достоевскому.
Ю. С.: И написал другой текст.
Б. Ю.: Да, свои фрагменты. Таким образом я получил диалог, обезличенный за счет истории коммуникации с этим текстом по всему миру на разных языках и тех следов, которые от него остаются в вики-цитатах – и продолжением этих вики-цитат в виде уже действий нейросети. Так я получил очень важный корпус текстов, который составляет фундаментальную плоть самого этого проекта. Но это не все. Мы точно так же работаем с Митей Курляндским и с музыкой – тоже нейросеть участвует в ее создании. Но одновременно с этим я просто взял несколько важных сцен и разделил их. То есть совершил тот самый акт, который мне кажется необходимым, чтобы обнаружить сюрреалистические свойства (это я сейчас как метафору использую понятие сюрреализма) сопряжения излагающей эпической прозы и диалога.
Все основное напряжение работы, которое сейчас во мне существует, и в принципе такого рода путешествие с объектом текста «Бесы» подразумевает понимание того, как диалог Достоевского может оказаться сегодня на сцене. Для меня абсолютно очевидно, что его надо как бы выпарить, очистить от всех тех иллюзий и моментов, в которых он служит обеспечению нарратива и объема фигуративно-реалистической иллюзии, вплоть до гетерогенной. Понятно это?
Ю. С.: На «гетерогенной» я уже немножко начинаю ломаться.
Б. Ю.: Надо выпарить оттуда пол, это важно сделать.
Ю. С.: То есть он не должен быть средством развития сюжета, механизмом его движения. Он должен быть подвешен в пространстве сам по себе.
Б. Ю.: Ну да. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но идеи пола не имеют. Все его диалоги – все от начала до конца – сотканы не из вещества, где сны, а из вещества, где идеи. И они непрерывно движутся вдоль этого текста. А описания, которые Достоевский прячет под личиной тех или иных героев, устроены как потрясающий объектный, овеществленный мир, подробно и замечательно выговоренный. Вот сочетание одного и другого дает абсолютно сюрреалистический эффект. Магритт, понимаете? Ну, это не надо делать в сторону Магритта, но по сути… Там, где идеи – это один тип техники игры. По сути это шекспировского открытое пространство – никакое ни экстерьерное, ни интерьерное. Площадное… Как угодно его можно назвать. И есть особого рода дистанция, которую изначальное надо положить и попробовать осуществить. Дистанция эта называется рай. Для того, чтобы сыграть ад, надо построить рай. И это парадокс. Катабасис подразумевает еще обязательно анабасис, то есть восхождение. И не бесы, а ангелы. Если говорить языком метафор, только ангелы могут сыграть бесов. Только такую предельную дистанцию надо построить, чтобы засверкали на свободе освобожденные от нарративного заклания, от этого обуживания ангажементом сюжета или психики, идеи, вырванные из так называемого актуального контекста туда, где они собственно проживают, то есть в рай.
Вот это то, что я буду продолжать делать, поеду через два дня. Как уж у нас получится, я не знаю, но это диалоги.
Ю. С.: То есть это идеи не в виде спора западников и славянофилов или там Киреевского с Аксаковым, а в платоновском смысле? Это идеи как сущности, находящиеся в каком-то интеллигибельном пространстве?
Б. Ю.: Дело в том, что Платон, он как бы знает истину, как вы понимаете. А софисты победили Платона, и весь XX век разворачивался в релятивном [ключе]. Я бы не сказал, что я здесь обращаюсь к тем техникам, например, игрового театра, которые грандиозно разрабатывал мой учитель, Анатолий Александрович Васильев. Кстати, он грандиозно разрабатывал и Достоевского – совсем иначе. Жаль, что его здесь нет. Я жалею, что у вас здесь нет двух человек, которые замечательно работали с Достоевским: это мой однокурсник и гениальный замечательный режиссер Клим и наш учитель общий Анатолий Александрович Васильев.
Ю. С.: Мы тоже очень сожалеем, правда. Говорили сегодня об этом с коллегами.
Б. Ю.: Ну это так, a propo. Если возвращаться к тому, о чем я говорю, и завершать уже мою тронную речь, я сейчас выложил перед вами технологическую проблематику этого проекта, и остается два момента. Один я уже в ближайшее время не сделаю – когда я хотел этот текст как сеть накинуть на сегодня живой, провинциальный немецкий город Котбус и эту сеть сделать при помощи целого ряда акций, неукоснительно сохраняющих – фрагментированный, естественно – текст Достоевского. Как бы внедряя его в магазины, туда, сюда… самые разные формы. Как эту самую оторвавшуюся от паука паутинку. «Нити Богородицы» запустить на Котбус. А второй момент связан с тем, как обращаться с эпической перспективой рассказчика, которая должна соприсутствовать с вот так понятым и вот так выделанным… Это же все надо сделать с актерами, диалоги… Кстати, очень помогает Оля Федянина с ее грандиозным знанием немецкого языка. У меня, наверное, не такая простая речь, хотя актеры прекрасно понимали. И ее передача – это целое искусство, она справляется с этим замечательно, хочу ей выразить огромную благодарность.
Ю. С.: И она сегодня была здесь с невероятно емким и точным выступлением о Достоевском в европейском театре.
Б. Ю.: Она огромный знаток.
Второй момент – вот эта самая эпическая перспектива, которая ни в коем случае не должна коррелировать с диалогом. Парадокс заключается в том, что надо разорвать связи. Вот таков – если сжато, и, к сожалению, все равно это многословно – сейчас мой опыт, еще не завершившийся результатом. Я еще не знаю, но надеюсь, что мы все сделаем. У нас работает прекрасная команда: Настя [Нефёдова], Степа [Лукьянов], Андрюша [Кузнецов-Вечеслов]… Это я называю последовательно художника по костюмам, художника-сценографа и хореографа. И, конечно, Митя Курляндский. Посмотрим, что у нас получится.
Ю. С.: Клим, я бы хотел предложить вам то же упражнение. Текст Достоевского, с которым вы работали или текст Достоевского вообще – как бы вы описали его свойства, его важные для вас черты? Если бы этот текст был пространством или ландшафтом, как бы вы описали его очертания, как бы вы составили его карту?
Клим Козинский: Мой опыт работы с Достоевским заключался в том, что я в нем совершенно потерялся.
Ю. С.: То есть это лабиринт или лес, или…
К. К.: Да, в каком-то смысле. То есть если говорить, что это како й-то объект – с чем я согласен абсолютно – то я оказался захвачен этим объектом. Причем мои отношения с Достоевским очень долгие. Единственной моей большой ролью был князь Мышкин. Я играл его в психиатрической больнице имени Павлова еще до того, как приехал в Москву, это в Киеве было. Я готовил эту роль лет пять и потом года два ее играл. И я тогда столкнулся с тем, что не могу играть Достоевского и не могу понять причину. Есть тексты, есть ситуации, есть диалоги, решения, а пробраться к тому, что меня самого захватывало, у меня не получалось. У меня собственно не было никаких инструментов – я мало читал и вообще был малообразованным человеком, потом стал себя снабжать разной литературой…
Ю. С.: А вы поняли, почему? Потому что сложно играть текст Достоевского или потому что сложно играть роль Мышкина? Мышкин же не совсем земной, не совсем психическое существо.
Б. Ю.: У него вообще нет психических существ, у Достоевского. Как только мы начинаем его раскладывать на душевность, мы теряем с ним контакт. Это какая-то беспощадная, иного типа объективация мира в виде текста. Да, он вытекает из воодушевленного его сознания. Значит, он построен на совсем других энергиях, чем нам кажется. Без пауз, например – это поток, у которого есть свои свойства. А психическое предполагает редукцию, дискредитацию этого потока. Это как в пении: вы можете себе представить изломанного психикой рок-музыканта? Не наркотиками, а психикой. Трудно. Он не знает и не будет ничего по этому поводу знать. Значит это что-то иное. Не какие-то психические дегустации… Можно все это туда вчитывать, но это оттуда же и вернется прямо в другое, всегда искаженное нечто, что стало в какой-то момент называться форматом игры Достоевского.
Ю. С.: То есть тот надлом, надрыв, изгиб – это то, что мы вчитываем в этот текст.
Б. Ю.: Наверное, да – те, кто решается на это. В этом смысле психический регистр не работает. Это мне было очевидно очень давно.
К. К.: Он точно работает в нарративе книги, потому что когда читаешь, то возникает ощущение того, что это герои, что у них есть чувства, переживания, тебя захватывают ситуации. Я могу своим опытом поделиться. В конечном счете ты вдруг там плачешь или смеешься. Естественно, безумие чувств, которые там описаны, и безумие ситуаций, в которые тебя ставит автор, работает непосредственно с твоей психикой, с твоей душой. Я в этом смысле ношу два опыта чтения Достоевского: до того, как я бросился в философию, пытаясь понять, что такое текст, как он устроен, что такое литература, как устроена мысль, откуда она растет; до того момента, когда я был чистым листом бумаги, любящим американское кино, истории, приключения. Дальше был период, года два, когда я стал упорно заниматься философией, и опять прочитал текст Достоевского. И я не мог остановиться от хохота, постоянно меня сопровождавшего, когда я его читал. Я не мог присоединиться ни к одной ситуации, постоянно видел иронию, дистанцию.
Ю. С.: Он очень язвительный, это правда.
К. К.: Невероятно! Как только ты получаешь дистанцию к ситуации, в которой располагаются персонажи, тогда ты начинаешь их слышать. В этот же момент я абсолютно потерял контакт с драмой, которая есть в Достоевском. И этой оказалось для меня другой ловушкой. Я встречался с актерами, у меня был такой длительный путь репетиций с ними – по разным причинам, театр строился, это был мой дебют. Он строился два с половиной года…
Б. Ю.: Полтора.
К. К.: Полтора, да. Я проживал это как два с половиной! В общем, я начал сразу работать с артистами. И вот я сделал с ними что-то, показал этюды, они понравились… Осталось еще полтора года, и мне предстояло сделать так, чтобы артистам нравилось работать с этим текстом. И я этот текст изнасиловал просто со всех сторон. Знаете, как Делез говорил, для того, чтобы захватить автора, надо подойти к нему сзади и заделать ему ребенка. Вот этот ребенок, который у тебя случается – перверсивный, извращенный ребенок – только он и является на самом деле твоим отношением, твоим диалогом с этим автором. Только тогда ты способен быть с ним на равных. Это может быть то, что Достоевский советовал людям: роман сами прочитайте, сюжет возьмите и напишите что-то свое. Это и есть такая сексуальная встреча. Я вдруг захвачен чем-то, что дает мне целое, двигаюсь к этому уже от себя и, страждущий, рождаю что-то свое. В этом смысле я был совершенно захвачен, я переосмыслил и стал переструктурировать этот текст уже при помощи философии, при помощи дистанции, при помощи попытки увидеть целое, а не отдельные ситуации. В результате я пришел к тому, что у меня герои оказались насекомыми, потому что я не мог рассказать это через людей. У нас главный герой в «Идиоте» – идиот. То есть он отделен от всего, что его окружает, это во-первых. А во-вторых, он так описан, что смотришь – добрый, хороший человек. Там идет такая игра, что все его называются идиотом все время, а ведь он не идиот. При этом каждый его поступок усугубляет чудовищность происходящих событий, то есть он действует на самом деле как идиот.
Ю. С.: Разрушает то, что уже надломлено.
К. К.: Абсолютно. Разрушая, разрушая, разрушая и, в результате, не оставляя ничего ни от своих идей, ни от идей, которые вокруг него – просто разламывая мир. И смешно же то, что, когда Достоевский это писал, у него был свой диалог с христианством, с православием, с идеей Христа – как бы миссионера, который пришел переиначивать реальность. Понятно, что князь – это такой «анти-Христос», который тоже пытается переиначить реальность… Или не «анти», может быть, это какая-то реплика. И это тоже проблема для современного человека. Я вот, например, не знаю, какие у меня могут быть отношения с христианством. В том смысле, что я не глубоко религиозный человек. И культура сегодня не так устроена. Сегодня нет этой традиции, через которую тебе передавалось какое-то очень важное сокровенное знание о корнях культуры взаимоотношения с миром – как устроен этот мир. Вот я понимаю, что Достоевский мог иметь с этим спор. То, что у него описано, и то, до чего он дотрагивался, это как бы било его током. Я даже приблизиться не могу к этому пониманию, и единственное, что я могу сделать, это отнестись к Достоевскому, к тому, где я оказался, к тому, что меня переиначило в моей жизни. Попытка столкнуться с ним – это была попытка вот этого перевертыша, попытка посмотреть на него с совершенно с другого ракурса, открыть идиотизм происходящего, открыть идиотизм диалогов, которые наполнены невероятным юмором и страстью. Найти возможность увидеть разрушительные качества этой страсти и при этом невероятно красивые.
Тогда у меня возникла идея. Спектакль называется «Идиотология». По сути это соединение двух текстов: «Монадология» Лейбница и «Идиот» Достоевского. «Монадология» описывает мир как состоящий из очень простых идей, монад, которые замкнуты и которые не могут друг с другом коммуницировать, они могут развиваться только сами внутри себя, вне коммуникации, они должны сами себя разогревать. В этом смысле каждый из героев Достоевского оказывается такой замкнутой клеткой, которая раздувается и вытесняет все остальные существующие клетки, стремясь, на самом деле, к объединению.
Ю. С.: На самом деле, интересно, что «идиот» в первичном значении древнегреческом – это человек, который не живет жизнью полиса. Человек обособившийся, частный, закрытый – монада, да?
К. К.: Абсолютно, монада. Сегодня можно сказать, это квир-персона. Идиот – это квир-персона. Не в смысле политическом, когда это связано с сексуальной ориентацией, а человек, который сам по себе, который себя перестал различать как человека. Именно с точки зрения сознания – я не понимаю, кто я и хочу снова обнаружить свои качества. И я хочу обнаружить эти качества и в других тоже, потому что я не понимаю, кто ты. Как только я делаю такой заход, человек тоже теряется. Растерянность полиса или Петербурга, в котором оказывается этот безумный – и есть то, зачем он был послан. Тогда дальше, если ты вдруг так получаешь Достоевского, то ты смотришь на христианство (потому что ты же имеешь дело с Достоевским, который имеет дело с христианством) и ты думаешь о Христе как о миссионере, который в каком-то смысле совершает такую же акцию. В этом смысле можно сказать, что Христос – это квир-персона. Он предлагает посмотреть на человеческое совершенно другого качества, неопределенного. Вот это и есть путь, стратегия работы с этим текстом.
Б. Ю.: Интересно, что святость – это ведь тоже отделенность. Собственно, так и понимается в монотеизме. Идиот по определению – еще и святой. Святая монада.
Ю. С.: Вчера в каком-то из разговоров промелькнула мысль, что князь Мышкин проиграл, он все разрушил, больной уезжает, все умерли и так далее. Точно так же если бы мы посмотрели на ситуацию в 33-м году нашей эры – Христос выиграл или проиграл. Проиграл, конечно – ничего не получилось, распяли. Все остались такими же.
К. К.: Опять же предложение изнутри романа – пересмотреть свое отношение. С точки зрения ситуации, да, человек действительно вернулся туда, откуда приехал. С Рогожиным произошла какая-то история, в нем случилась перемена – он стал убийцей и поехал на каторгу. Но с точки зрения идеи, это же ницшеанский подход: я пришел и разрушаю то, что уже давно, на самом деле, является нерабочим, то есть то, что является «анти-миром», и у меня есть запрос на реальный мир. Но этот реальный мир может быть только после того, как я совершу акт вандализма в отношении всего, что я представляю о душе, о религии, о нормах и установках. Взбаламутил пространство.
Ю. С.: Да, Мышкин тут выступает как такой агент-провокатор, запускающий процесс трансформации пространства, в котором происходят действия каждого из персонажей. И, наверное, Достоевский мечтал о таком же действии своего текста – в этом смысле он был романтический автор, видящий в тексте некоторую силу, которая должна трансформировать читателя, его душу, психику, его жизнь, его отношение к миру – не оставить его на той же позиции, с которой он в этот текст вошел.
К. К.: Вообще, это же интересная тема – соотношение самого Достоевского с тем, что он писал. То, что он писал как личность – его заявления, его размышления о политике, например – это довольно консервативный взгляд вне каких-то революционных убеждений. И то, что художественная ткань его текста совершенно противоположна его человеческой интенции – поразительное свойство. Поэтому не знаю, как хотел Достоевский чтобы работал этот роман, но он продолжает работать. Если вообще можно сказать сегодня, что Достоевский имеет какое-то отношение к реальности, то только как провокация.
Ю. С.: Борис, а вы говорили о некой акции, связанной уже с самим Достоевским, с фигурой Достоевского, которая входит в этот большой проект. Или я неправильно услышал?
Б. Ю.: Нет, я Достоевского как такового не моделирую вообще. Для меня это невозможно. Это мне требуется тогда большое исследование, именно личное, внимательное чтение его журнала и всего-всего-всего. И тогда только можно будет выделить какие-то модели по этому поводу. Для меня Достоевского нет. Есть некий жупел, который мацается с разных сторон под разными соусами, но я с такого рода операциями дела просто не имею. Поэтому я не стал бы рассуждать о Достоевском. Я могу только говорить о свойствах не с точки зрения философа текста, а с точки зрения театра я до чего-то добираюсь. Для меня это более или менее корректный взгляд. И то – сильно определенный моим чувством того, что живое действие этого текста завершилось. Если мы будем доверять этому тексту, мы будем оказываться там, где уже прошедшее время. Но это хорошо, это значит, у нас есть надежда на новый тип дистанции – мы как бы имеем дело с руиной или с камнем. Он стал вещью, объектом, он перестал быть чем-то, что еще не различило свои границы. Вот это различившее уже, разместившееся в своих границах пророчество – так я это слышу. Это первое.
Но дальше – у него есть свойства. Шатов и Мария – помните эту сцену? Я приведу пример, как он пишет. Удивительное же там написано. В какой-то момент мы имеем дело с беременной женщиной в финале, а до этого ее нет. Вот и все.
Ю. С.: Она появляется перед убийством.
Б. Ю.: Она в финале появляется. У них идет сцена, там нет беременной женщины. А потом она назначается как беременная. Вот так он пишет.
Ю. С.: И что это нам о нем говорит? Или о свойствах его текста.
Б. Ю.: Ну это же странно.
Ю. С.: Странно.
Б. Ю.: Если мы имеем дело с реалистической сценой, то тогда у нас постоянно присутствует третий – ребенок. Беременная женщина… Она является героем диалога. А если ничего этого нет – то значит, это какая-то другая сцена. Получается, она беременеет на протяжении этого диалога или просто в финале назначается беременной. Это же как-то по-другому представленная реальность этого текста. В этом смысле я через метонимию вот этой сцены пытаюсь сказать, что нам Достоевский неизвестен. Нам его надо заново внимательно читать, мы не можем надеяться на то, что кажущееся нам реалистическим описанием некой ситуации или интерьера или еще чего-то не окажется не только этим, а в принципе реальностью. Тогда там откроется какой-то другой совершенно закон, и по другим законам тогда надо будет понимать все целое. То есть его надо читать заново, медленно, снабдив себя инструментарием, до которого добралась сегодня герменевтическая возможность нашего понимания, наша общая гуманитарная ситуация, но при этом добавить туда – если мы хотим делать из этого театр – поиск того, как же этот текст превратить в игру, как с этим встретиться актеру, режиссеру, постановщику и так далее. Это все будет что-то совсем другое. А вот что это означает… Вы же об этом спросили, почему он так строит?
Ю. С.: Да-да.
Б. Ю.: Мне кажется, это подтверждает, что система его диалога (и базирующиеся на этом сцены) раздвоена на как бы материальное, но сюрреалистическое описание… Вот представьте себе, что Мария в этом диалоге – круглая скульптура, и что камера летает вокруг нее по спирали. Вот она пролетает, никакого живота мы не видим, она продолжает в непрерывном кадре летать-летать-летать. И вдруг мы видим в какой-то момент в финале, что там образовался живот. То есть этот живот выращен диалогом.
К. К.: Следующий вопрос тогда «а кто же там в животе?»
Б. Ю.: А там нет никого, беременность эта есть следствие этого диалога. Вам это ничего не напоминает?
Ю. С.: Опять же, евангельская история.
Б. Ю.: Я не хочу никаких ассоциаций, тем более – затронуть чьи-то чувства. Но тогда мы имеем дело с каким-то другим совершенно способом высказываться по поводу всех святых форматов его и нашего времени, понимаете? Мое утверждение заключается в том, что тотальность его письма – в «Бесах» точно, но я подозреваю, что и во всех его основных романах – устроена таким вот злобно-подспудным месседжем. Там спрятаны какие-то сюрреалистические чудеса, которые делает с нами текст и то, как он развертывается на территории той или другой сцены.
В этом смысле я думаю, что он не прочитан. Потому что те нарративные и монтажные психоидные прихваты, при помощи которых принято воспринимать Достоевского – все это следствие способа чтения во времени. Сейчас, когда время настолько изменилось в реальности своего чтения – и неважно, медленно ты читаешь или быстро, не об этом идет речь – требуется новое прочтение. А для этого надо выйти на какую-то другую дистанцию, которую я и называю объектно-ориентированной.
Ю. С.: Если совсем упрощать, это то же, что Клим проделал с текстом «Идиота», отказавшись от эмоционального вовлечения и выйдя на какую-то аналитическую дистанцию.
Б. Ю.: Нет, наоборот, он не отказался, а он ее исчерпал. Его туда вынесло. Потому что причем здесь вообще эмоции, вот это мне непонятно. Если мы берем скалу и пытаемся ее как объект перетащить в другое место – из места, которое называется «роман» в место, которое называется «сцена». Если мы по этому поводу будем рыдать…
Ю. С.: Все же есть огромная традиция именно рыдания.
Б. Ю.: Перетаскивания скалы из текста на сцену.
Ю. С.: Нет, использования текста Достоевского как такого топлива для каких-то эксцессов, экстазов, выходов за пределы себя. На сцене в том числе, мне кажется.
Б. Ю.: Да, и в кино есть. Мы имеем дело с какими-то эрзацами, мы не встречаемся тогда с Достоевским. Это способ организовать не-встречу. Вот другой совсем образ, если позволите. Мираж. Он существует в пустыне. Но если мы его построим, переведем его в кинематограф или куда-то еще – миража не будет, он станет реальностью. Но это же был мираж. Вот точно так же Достоевский, он существует в культуре как мираж. И это вызов.
Ю. С.: А почему важна нейросеть, и как она с этим миражом помогает работать?
Б. Ю.: Никак. Она просто чувствительна к миражам, создает свои миражи. Но, так как это происходит при твоей инициативе, то у тебя есть возможность встретиться не только с прошлым, а осуществить очевидный в своей перформативности акт и инсталлировать его на сцене в виде процессуальности: встречу завершенного объекта текста Достоевского и абсолютно первого, находящегося в зарождении… потому что если ты второй раз пошлешь текст в нейросеть, будет вариация. То есть «раскупорить» этот мираж и обнаружить в нем огромную, невероятную вариативность. И вступить в диалог с нечеловеческим сознанием. Благодаря чему можно увидеть все миражные свойства той реальности, которой нам кажется этот текст, обострить его и на этой территории развернуться с его диалогами, которые очень даже реальны. Не там, где плоть кажущегося нам и существующего там в виде текста материального мира, а там, где мир идей, особым образом свернутый в пружину действия. С этим театр может иметь дело. Освобожденный от психического, выйдя на какой-то другой уровень участия в смыслах, в идеях или в дистанциях к ним, театр может сегодня прекрасным образом быть заразительным, ярким, живым, разнообразным.
Ю. С.: Друзья, мы, наверное, постепенно завершаем нам разговор. Если вы хотите принять в нем участие с той дистанции, которая между нами выстроилась, – пожалуйста.
К. К.: Все очень хотят.
Ю. С.: Да, все очень хотят, но немного измождены. Борис, спасибо. Клим, спасибо. Друзья, спасибо всем, кто нас смотрел все эти два долгих дня. Кажется, есть необходимость и потенциал как-то продолжить эти разговоры – может быть, когда-нибудь мы это сделаем.
Б. Ю.: Вы помните, я вам предложил героев разговора? Мне кажется, это будет очень интересно.
Ю. С.: Конечно.





